
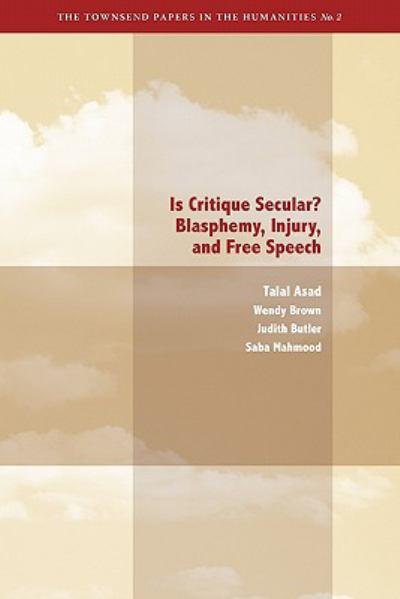
[рецензия на: Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech by Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler, and Saba Mahmood (California, 2009)]
Историческое и политическое различение и столкновение секулярного и религиозного – один из сюжетов, представляемых современной критикой дискурса для объяснения насилия, источники которого, таким образом, явно или неявно возводятся в «религиозным войнам», Крестовым походам, Реформации, иконоклазму и т. д. Базовое европейское насилие – это религиозное насилие (или насилие, мыслящее себя религиозным), и просвещенческая секулярность – не столько противоядие от него, сколько один из моментов. Сегодня конфронтация религиозного/секулярного (как форма все того же религиозного насилия) приобрела черты, которые все сложнее свести к устойчивой диспозиции просвещенческого типа, в которой прогрессивная критика и политика боролись бы с интервенциями тех или иных религиозных концепций, несправедливо претендующих на универсальное значение. И дело даже не только в имманентной критике самого проекта Просвещения. Вопрос, скорее, в том, что актуальная критика – как то, что поддерживает практику и институты критического общества, – находится в подвешенном состоянии, определенном и событиями, и их возможными интерпретациями.
Сборник «Секулярна ли критика? Богохульство, ущерб и свобода слова», выпущенный в 2009 году и ставший результатом однодневного симпозиума в «Townsend Center for the Humanities» университета Беркли, является примером того, как современные представители критической теории способны ответить на вызов, брошенный реальным насилием, поддерживаемым политическими интерпретациями. Несколько исследователей – Талал Асад (Talal Asad), Саба Махмуд (Saba Mahmood), Джудит Батлер (Judith Butler) (их статьи как раз и вошли в книгу вместе с введением Венди Браун (Wendy Brown)) – в качестве «кейса» избрали начавшийся в 2005 году конфликт «датских карикатур» на пророка Мухаммеда, дабы поставить ряд достаточно жестких вопросов не только о свободе слова в современной либеральной демократии, но также о перспективах трансформации базовых принципов публичности в этой политической системе. Карикатуры на основателя ислама вызывали, как известно, не только выступления мусульман по всему миру, но и ряд торговых мер со стороны отдельных стран. В самой Европе карикатуры на пророка стали отправной точкой множества публичных выступлений и скандалов, в которые были вовлечены политические активисты самого разного толка и СМИ. В результате конфликт был выписан в виде противостояния «европейских ценностей свободы слова» и «религии насилия» (то есть ислама), либерализма и тоталитаризма (не стоит забывать, что в это же время получили хождения тезисы об «исламофашизме»). Перепечатка исходных карикатур из Jyllands-Posten в европейских СМИ стала некоей универсальной «гражданской акцией», защищающей свободу слова от цензуры. Дания продемонстрировала способ ведения своеобразной «либеральной» войны, ограниченной рамками прессы, но способной привести к реальному насилию.
Антропологи и культурологи Талал Асад и Саба Махмуд вместе с философом и активистом queer movements Джудит Батлер ставят под вопрос господствующее описание конфликта, который, якобы, стал маркером не-включения, не-интеграции мусульман в «общеевропейское пространство». Критика этой господствующей интерпретации оказывается, одновременно, выходом к вопросу о продолжении или трансформации самого критического мышления в современной ситуации. Иными словами, предпринята попытка деконструрировать «либеральную» интерпретацию датского конфликта, выявить ее провалы и одновременно наметить некую политическую практику за пределами академии.
В своем тексте «Свобода речи, богохульство и секулярная критика» Талал Асад показывает, что идеологическая рамка датского конфликта заведомо сужает интерпретацию причиненного мусульманам ущерба и в то же время систематически опускает существенные принципы функционирования самой «свободы слова» в западном обществе. Асад справедливо указывает на то, что свобода слова не независима от тех ограничений, которые в современном мире опознаваемы, например, в законодательном регулировании сферы авторских прав, лицензирования и т.п. Более того, на уровне политической конституции либерального общества сами эти принципы регулирования и ограничений не столько руководствуются принципом экономии ущербов, сколько поддерживаются базовым элементом свободы слова как места осуществления политической истины, то есть личностью как владельцем собственных мнений. Свободное высказывание аналогично собственности, которая не может быть отчуждена, но ее частный характер принципиален – поскольку именно он актуализируется, например, в тайном голосовании. Асад не рассматривает, как именно был сформирован подобный режим «отправления» личности, которая не просто «имеет» некоторые частные мнения, но и заботится о том, чтобы они оставались аутентичными, не подвластными какому бы то ни было влиянию и при этом определяющие политический, публичный порядок (вплоть до современных вариантов рейтингократии). Скорее он стремится подчеркнуть, что подобное слияние частного и публичного в фигуре свободной и владетельной личности радикально отличается от исламского отношения к свободе мнения и публичному порядку.
Вопреки господствующим интерпретациям, предполагавшим, что мусульмане просто не позволяют «изображать Бога» (хотя Мухаммед считается только пророком) и потому-то датские карикатуры являются для них именно «богохульством», сами мусульмане говорили об «ущербе». Но статус этого ущерба не прояснен. По мысли Асада, ситуацию проясняет вопрос о «соблазнении». Если западное общество предполагает нечеткий баланс свободного выбора и выбора принудительного, обеспеченного привлечением и соблазном (например, за счет рекламы), исламская «публичность», если о ней вообще можно говорить, строится на принципиальном разведении сферы собственно веры или мнения (которая подотчетна только Богу) и сферы общественного порядка, в которой любые попытки манипулировать с мнением других, склонять их к какому-то решению, недопустимы. Иначе говоря, именно запрет на принуждение к вере, в такой логике, требует регуляции социальной и, соответственно, публичной жизни рамками достаточно жесткого кода. Ущерб, о котором говорили мусульмане, – прежде всего связан именно с попыткой «соблазна», разрушения установленной в исламском обществе границы между личной верой и принадлежностью к определенной группе. Этот ущерб, естественно, не имеет отношения к богатой традиции христианского богохульства (и к логике христианства как первичного «критического» жеста Иисуса по отношению к еврейскому закону). По мысли Асада, сама секулярная критика, находящаяся в конфликтной и одновременно генеалогической связи с христианским тезисом «Истина сделает вас свободными», не способна признать иного распределения позиций свободы и ее огласовки (например, немыслимой становится свобода мнения, которая не подлежит публичному озвучиванию), которое как раз и поддерживается исламом. В результате и западная критика, и западная теология (в лице, например, Папы Бенедикта XVI) претендуют на монопольное владение инстанцией критического разума, которая поддерживает позиции «секулярного героизма» или же католического согласия разума и веры.
Саба Махмуд («Религиозный разум и секулярный аффект: разрыв несоизмеримости») во многом поддерживает тезисы Талала Асада, акцентируя внимания на природе ущерба, понесенном мусульманами. По ее версии, исламское отношение к пророку Мухаммеду и его изображениям должно пониматься в контексте практик подражания, которые определяют личные, семейные узы, которыми связывается мусульманин и пророк. «Ущерб», формулировка которого стала отдельной проблемой, напоминает, в таком случае, оскорбление члена семьи, близкого родственника. В этой структуре отношений изображение не может пониматься в модернистской парадигме различения знака и означающего, смысла и значения, то есть для мусульманина аргумент «здесь не может быть никакого оскорбления, поскольку это всего лишь картинки», не работает.
Более интересным в рассуждении Махмуд оказывается вопрос о возможности использования западной правовой системы в подобных конфликтах, поскольку одним из вариантов ответа со стороны мусульман было обращение к законам о расизме и т.н. “hate speech”. Анализ правовых институтов, в том числе «Европейского суда по правам человека» показывает, однако, что эти институты построены на ряде предпосылок нормативного характера, которые, в свою очередь, отсылают к секулярно-либеральной культуре и установкам протестантского большинства. На уровне законодательства это проявляется и в том, что законы о “hate speech” и свободе слова не только гарантируют последнюю, но и определяют ее границы, преследуя цель сохранения «общественного порядка» в государстве как таковом (особенно такая ситуация характерна для Европы). Отсюда ряд громких дел, связанных с запретом тех или иных художественных произведений. По мысли Махмуд, мусульмане, пытающиеся высказать свои претензии на языке секулярного европейского закона, попадают впросак, поскольку этот закон, фактически, отрицает само содержание их претензии, систематически не признает и исключает его, заставляя переводить мусульманский «ущерб» и «ущемление» на язык, им чужеродный, то есть унижает их повторно.
Джудит Батлер, отвечая на тезисы Асада и Махмуд, пытается, прежде всего, выделить их критический потенциал и восстановить позицию той критики, что способна оценить сами системы оценок (в том числе и юридических) и переоформлять их. Этот «кантианский» подход защищается от атаки Асада, стремящегося выделить даже в фукианском варианте критики «эпистемологический» оттенок, превознесение разума и знания как способа поддержания героико-просвещенческой позиции. Однако Батлер, не стремящаяся замыкаться на «Академии» как главном пространстве развертывания критической деятельности, сталкивается с принципиальными трудностями при попытке осуществить критический анализ на материале собственного датского конфликта. Обнаруживается, что противостояние реализуется уже внутри самого «критического общества», то есть, например, среди прогрессивных движений за сексуальное освобождение, queer movements, которые оказались расколоты вопросом отношения к «мусульманам» и к свободе слова. Батлер указывает на то, что принципы толерантности, ранее прогрессивные по определению, ныне встроены в государственную машину так, что зачастую выступают в качестве инструментов репрессии. Причем сама эта эволюция Батлер никак не анализируется – государство представляется просто в качестве внешнего агента, который загадочным образом перехватывает и радикально перетолковывает прогрессистские содержания. В результате, например, в Дании иммигрантам предлагают специальные тесты на толерантность, содержащие изображения целующихся геев (что, как предполагается, должно выявить тех, кто «способен сдержаться», и тех, кто находится за гранью европейской цивилизованности). Справедливо указывая на сомнительный статус подобных тестов, Батлер видит будущее критической политики в объединении всех репрессированных групп против государства-репрессора. Идеальным митингом будущего оказывается, таким образом, тот, где геи и транссексуалы идут плечом к плечу с мусульманами.
Продуктивность диалога Асада, Махмуд и Батлер, несомненно, в том, что он показывает неопределенность места критики как именно социального, а не академического феномена. Но, как несложно заметить, именно в глобальном смысле, как обобщенная социальная практика (то есть в том смысле, который отчасти разделялся и Фуко), критика все более оказывается не у дел. С одной стороны, ставка на анализ ситуаций «распри» (в смысле лиотаровского différend) – то есть такого столкновения потерпевшего ущерб с законодательным порядком, когда первый в принципе не способен этот ущерб озвучить, не усугубляя его, – несмотря на всю критическую дистанцию (и благодаря ней), превращает жертву в некую инфантильную или наивную фигуру. То есть гипотетический мусульманин, которого следует оградить от провальных попыток описать свой ущерб на языке либерального закона, по сути, нуждается в представителе собственных прав, некоем «посреднике», – но совершенно неясно, как могла бы реализоваться такая система репрезентации без интеграции в собственно «западную демократию». Для него же самого, как неявно утверждает Асад, проект критического общества, то есть общества, сами принципы которого могут быть изменены путем публичной дискуссии, просто немыслим, не существует в виде горизонта (в отличие от либеральной демократии, где этот горизонт просто закрыт). Ислам оказывается не универсальной религией, а всего лишь некоей эндемичной культурой, с которой нужно и обходиться соответственно, то есть как с культурой, которая не имеет претензий на универсальную критику, а лишь заботится о собственном гомеостазе.
Более того, тезис о том, что именно жесткость социального кода сохраняет в исламе свободу личного мнения, и потому-то любая атака на этот код вызывает чувство ущемления, систематически пропускает тот момент, который как раз и стал основным во всем датском конфликте – а именно то, что иммигранты не могут вести себя так, словно бы у них не было никаких иных социальных референций и связей, кроме закрытого исламского «сообщества» (реального или воображаемого). То есть вопрос именно в том, имеют ли мусульмане право на тот ущерб, который конституирован их декларативным отсутствием в западном обществе и сохранением собственного «сообщества», то есть не-включением на символическом уровне, оспариваемым включением на уровне реальных социальных механизмов. Что же до критической реконструкции этого ущерба, не является ли такое его описание не только наивной, но и, прежде всего, нормализующей процедурой, ставящей предположительную жертву в положение несовершеннолетнего «младшего брата», представителя младшей культуры (так, Асад указывает на то, что и для европейских культур запрет на те или иные публичные высказывания вполне обычен, особенно раньше). При этом такой младший брат, оказавшийся в ином обществе, как будто бы не способен понять того, что все его belongings давно остались в другом месте и в другом времени. Поэтому социальная критика здесь, скорее, начинает выполнять функции социальной работы или поликлиники – она неявно предлагает относиться – благодаря подобной нормализации – к «ущемленным» мусульманам как к шизофреникам, который живут в своем мире жесткого социального кода, который строго фильтрует их отношение с внешним миром либеральной демократии. Однако вопрос именно в этом – способны ли они на изменение этого кода и не является ли такое представление (клиническое и социальное одновременно) в свою очередь расистским? Если расизм может появиться из религиозных карикатур, не способен ли он родиться из социальной критики вполне благонамеренного толка, то есть не является ли расистским представление, будто некоторые социальные системы в своем кодировании настолько сильны, что его человеческие элементы сохраняют этот код в рабочем состоянии даже при физическом перемещении в иную (территориально) систему?
Точно так же и рассуждение Махмуд об «особой политике иконы», действующей якобы в исламе, соотносится с исследованиями по византийской визуальности1, то есть, опять же, неявно вводит представление о некоем «этапе», на котором, например, не существовало четкого различия изображения и предмета изображения (а сама эта нечеткость поддерживалась религиозно-аффективным отношением к изображению), этапе, который был заметен в Византии и каким-то образом законсервировался в исламе, так что, можно предположить, есть по крайней мере еще одна религия с подобным неразличением означаемого и означающего – Православие. Иными словами, ислам не избегает тотализующей схемы, которая не так уж сильно отличается от гегелевской – а это совсем не тот вывод, которые можно подразумевать в современной прогрессистской критике. Ведь гетерогенный ущерб должен защищаться без его нормализации, иначе критика лишь воспроизводит то, против чего она выступает, просто на более высоком уровне.
С другой стороны, говоря о связи секуляризации с христианством и особенно с протестантизмом, авторы не рассматривают вопрос о собственно секулярных и критических потенциях иных мировых религий, и прежде всего ислама как главного протагониста датского конфликта. Это снова наводит на мысль о неявном (и в случае Батлер вполне явном) конституировании мусульман в качестве «меньшинства», которое принципиально дистанцировано от процессов секуляризации. Если ислам не предполагает чего-то аналогичного проекту критического общества (а это совсем не то же самое, что «светская культура»), ему уготовано место в обобщенной политике идентичности или же в «социальной сфере» (отсюда отождествление современных военных антитеррористических операций с глобальной «социальной работой»). Однако такой «фрейм» – не более, чем проекция весьма долгой эволюции социальной критики, эволюции не всегда удачной и не завершенной. Согласны ли мусульмане (не говоря уже о загадочных «исламистах») на то, чтобы занять место «minority» или стать пациентами глобальной поликлиники? Способны ли они пойти на такую критическую операцию, которая оборачивается их нормализацией?
Пример с «тестом на толерантность», используемый Батлер, показывает не только апроприацию государством прогрессистских лозунгов, но и систематическое невнимание к контрагенту – «опасному иммигранту»: если для государства достаточно того, чтобы потенциально недовольный или взрывоопасный мусульманин просто притворился (что вполне соответствует тысячелетней традиции Taqiyya2), «критик», считающий такой тест уже оскорбительным, смотрит на мусульманина либо как на представителя «наивной» культуры, не способной на лицемерие, либо как на спонтанного либерального гражданина, который не отличает право на свободное мнение от права на его свободное высказывание, то есть существует в режиме «не могу молчать». Внимание к гетерогенности неожиданно оказывается смешанным с объективацией, конституцией «ущемленного» в качестве объекта с заранее заданными свойствами, – тот же самый момент проявляется, когда предположение о «злоупотреблении» мусульманами европейским законодательством (то есть о его техническом использовании с целью извлечь политическую или экономическую выгоду безо всякого «реально» ощущаемого «морального» ущерба) отвергается и признается проявлением праворадикальной идеологии. Конечно, такая интерпретация, снова обнаруживающая в мусульманах опасность, может быть чисто идеологическим явлением, однако не стоит отрицать за представителями других культур способности к рефлексивному применению тех или иных нормативных механизмов.
В конечном счете, анализа требует именно та констелляция критики (как академической, так и политической), которая разорвана между развертыванием принципов толерантности, которое оборачивается поддержкой «либеральной» гегемонии, и политикой угнетаемых меньшинств, дублируемой в виде identity politics на государственном и идеологическом уровне. Иначе говоря, вопрос о свободе слова может стать продуктивным только в том случае, когда базовая «либеральная нормативная» конструкция перестанет рассматриваться критиками в качестве гомогенного репрессора, элемента государственной, то есть чисто насильственной машины, а снова будет вписана – в том числе на уровне институтов – в историю критического общества и Просвещения в целом. В противном случае любые прогрессистские программы в стиле объединения угнетенных мусульман и транссексуалов на уровне городских маршей окажутся ограниченными именно той нормативной машиной, которую они не в силах изменить (поскольку сами апеллирует к ней), как и теми неолиберальным политиками, которые задают совершенно определенные способы различения угнетения и свободы.
1 Имеются в виду, прежде всего, работы Marie-José Mondzain.
2 Taqiyya (Taqiyah) – концепция, возникшая в Исламе к концу первого тысячелетия Н.Э., составная часть шиитской теологии. Некоторые основные тезисы учения были изложены Ат-Табари (в другом русском написании – Аль-Табари, 838-923 гг.) в его тафсире, где он, в частности, указал на то, что, когда мусульманин живет в стране неверных, под властью неверных, он должен полностью соглашаться с правилами и законами этой страны, ничем не показывая своего отличия и не подвергая себя опасности. О современных вариантах развития концепции Taqiyya и ее значении для «террористических» организаций, см.: Reza Negarestani, The Militarization of Peace // Collapse: Philosophical research and development. Vol. 1. Oxford: Urbanomic, 2006.
Дата публикации: 26.07.11
Проект: Планка
© Кралечкин Д. 2011